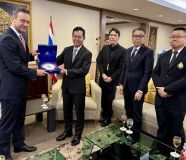Участие граждан не сводится к формальному одобрению списка ЦК
15 февраля, 16:19
Хроническая проблема наступающего дефицита ресурсов
15 февраля, 14:27
В публичное пространство смогут вернуться усопшие
15 февраля, 13:02
Сейчас нужно не обсуждать проекты, а проектировать
15 февраля, 12:52
Многоходовая комбинация Зеленского?
15 февраля, 12:15
Котюков не захотел разбираться в ситуации в Кодинске?
15 февраля, 10:42
Что необходимо для формирования системы здорового питания
15 февраля, 10:30
Фундаментальный мировоззренческий разлом внутри воюющей страны
15 февраля, 10:10
13 мая 2025, 08:50
Дипломатия Второй мировой: консенсус или смерть
Вторая мировая война стала одним из самых страшных и трагичных событий 20 века или даже всей истории человечества. Масштаб этого глобального катаклизма характеризуется не только чудовищными жертвами и разрушениями, километрами фронтов и площадью театра военных действий, рекордным количеством вовлеченных стран, но и уникальностью дипломатических контуров и взаимодействия политиков крупнейших мировых держав.
На фоне современной кризисной и бескомпромиссной внешнеполитической повестки, равно как и повсеместной милитаризации, интересно вновь оценить, как мировые лидеры таких разных (от идеологии до стратегического видения мироустройства) в самом широком смысле этого слова государств свыше 80 лет назад преодолевали множество препятствий на пути взаимовыгодного диалога. Что этому предшествовало, как проходили переговоры и почему мир до сих пор держится на договоренностях «Большой тройки»?
Об этом и не только обозреватель журнала «Монокль» Игорь Карпов побеседовал с кандидатом исторических наук, доцентом исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александром Вершининым.
- Начнем с баланса сил мировой дипломатии в рамках Второй Мировой войны.
- Я сделаю шаг назад. Всё-таки архитектура международных отношений после начала Великой Отечественной войны полностью изменилась. После подписания пакта с Германией Сталин ждал повторения на Западе сценария 1914 года. А именно того, что Гитлер увязнет в позиционной войне во Франции и в Бельгии. Францию будет поддерживать Великобритания. На стороне Англии будут играть США.
То есть возникнет стратегический тупик. Германию блокируют с морей, а Советский Союз может спокойно развиваться и где-то к 42−43 году будет иметь все возможности для того, чтобы, как Сталин выразился еще в 1925 году, «бросить свою пролетарскую гирю на чашу весов». Иными словами, выйдет как «Бог из машины» и решит этот клубок международных, европейских противоречий в свою пользу.
- Что пошло не так?
- В первую очередь, впечатляющая операция немцев на Западном фронте, которая за месяц 40-ого года вывела Францию из войны. Сталин сталкивается с неприятной ситуацией, которую он не предвидел: на европейском континенте он оказывается один на один с Гитлером при полном понимании, что советско-германские противоречия, обострившиеся уже во второй половине 39-го в 40-м году, никуда не исчезли.
Гитлер приехал в оккупированный Париж в конце июня сорокового года, и в ходе своего визита отдал распоряжение о подготовке плана нападения на Советский Союз.
У Сталина нет союзников. Великобритания не является союзником, она является воюющей стороной, открыто солидаризироваться с которой Сталин не хочет, чтобы не злить Германию и не подрывать советско-германский диалог. США в это время вне европейской игры. Рузвельт настроен на все более активное втягивание Америки в европейские дела, но в США существовало мощное изоляционистское лобби. Оно ему этого сделать не дает. США, скорее, морально поддерживают Великобританию, хотя постепенно всё-таки наращиваются военные поставки. Япония на Дальнем Востоке по-прежнему занимает откровенно враждебную позицию в отношении СССР.
- Получается, к началу войны Советский Союз оказывается фактически во внешнеполитической изоляции?
- Да, и нападение Гитлера было тем событием, которое эту изоляцию разрывает. В тот же день Черчилль заявляет о том, что Великобритания всеми силами поддержит Советский Союз. Его яркая речь хорошо известна (Черчилль был мастер красивого слова): «Если Гитлер вторгнется в ад, я замолвлю за дьявола словечко в Палате общин». Тут же объявляется о том, что Великобритания готова поставлять военное снаряжение в Советский Союз. 12 июля оформляется советско-британский союз.
С Америкой все было сложнее, потому что, во-первых, она находится очень далеко и в войне не участвует формально. Во-вторых, советско-американских отношений практически нет к моменту начала Великой Отечественной войны.
- Вообще нет?
- В 30-е годы они за рамки консульских дел фактически так и не вышли. Отсюда необходимость для американцев, да и для Советского Союза, с нуля эти отношения выстраивать. И в США отношение к Советскому Союзу было неоднозначным. Как и в Англии, но там ситуация другая: Англию бомбят, английский флот топят немецкие подлодки, поэтому, что называется, не до жиру. А американцы пока думают, стоит ли поддерживать русских. И лоббистов Советского Союза в США по пальцам можно было посчитать. Из них основным был именно президент Рузвельт.
Вызовы и возможности
- Как при такой дистанции всё же удалось создать коалицию?
- Во-первых, общая угроза. Второе, это общность взглядов лидеров будущей антигитлеровской коалиции вообще на ситуацию в мире и, если можно так выразиться, некая сопоставимость их типажей. Оказалось, что Черчиллю, застарелому империалисту, имеющему богатый опыт управления Британской империей, на самом деле есть, о чем поговорить со Сталиным, с большевиком, которого он обличал сотни раз с трибун. У них общие представления о мире, общие цели, они говорят на одном языке, обсуждая судьбы континентов, народов.
И даже какие-то личные моменты у них оказываются совместимыми. Это вещь, которая дорогого стоит, тем более в ситуации, когда регулярные связи на уровне дипломатов нестабильны. Первый личный контакт Сталина с Черчиллем в августе 42-го года показал, что при всех разногласиях эти два человека друг друга слышат. Это было что-то похожее на взаимоотношения, которые выстраиваются между Путиным и Трампом. То есть они люди, безусловно, разные, возглавляют разные страны, которые находятся в самом центре мирового катаклизма, но они друг друга слышат. Как сейчас нам, по крайней мере, говорят из Вашингтона и из Москвы.
- Почему в ходе переговоров вообще был принципиален вопрос о переделе сфер влияния?
- Гитлер взорвал мировой порядок, архитектура которого сложилась после Первой мировой войны. Она была неоднозначной, ее критикуют, во многом оправданно, но она была и основывалась на доминировании Запада: военном, экономическом, если угодно, идеологическом. Были созданы институты, на которых все это базировалось.
Гитлер своим ревизионизмом в Европе и его союзники своими действиями за пределами Европы, соответственно, Япония в Восточной Азии, Италия в Африке, все это взорвали. Огромный мир оказался неуправляем.
Перед лидерами Большой Тройки стояла задача все пересобрать. То есть создать такую структуру управления миром, которая, во-первых, гарантирует защиту от возобновления новых войн, во-вторых, обеспечит стабильность и будет амортизировать противоречия, существовавшие всегда между великими державами. В-третьих, она позволит миру как-то развиваться.
Говорить о практическом решении этих задач можно было только тогда, когда непосредственная угроза победы стран Оси отошла на второй план, а это, пожалуй, не раньше конца 43-го года.
- До этого их обсуждение было неуместно?
- Оно велось, но без какой-то практической проекции. Чтобы было понятно, насколько вопросы такого рода были важны для Сталина. В декабре 1941 года немцев только-только от Москвы начинают отгонять. В советскую столицу приезжает министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден, говорить о помощи Красной армии, которая истекает кровью. А Сталин ставит вопрос о переделе границ в Европе. Иден был, как он потом писал в мемуарах, несколько шокирован, так как очевидно, что не до этого было в это время Советскому Союзу. Однако Сталин намечал ориентиры очень четко.
- Проявил стратегическое видение?
- Сталин в первую очередь стратег, безусловно. Ему важен баланс сил, ему важны границы, ему важны территории, сферы влияния. Это для него реальная азбука большой политики. В этом смысле он совпадал с Черчиллем.
Для Рузвельта это все-таки нечто другое. Нужно понимать, что у американцев особая внешняя политическая культура. Если страны Европы на своем маленьком западном полуострове Евразии веками воевали за небольшие клочки земли, то американцы сразу мыслят континентальными масштабами.
Как Рузвельт видел картину мира? У него в кабинете висела карта, но не такая, как у нас в школах, а повернутая к зрителю со стороны Северного полюса. На этой карте США были не на западном отшибе, а в самом центре. Рузвельт так и видел мир. Для него это связная система, большое пространство, которым необходимо управлять.
- Получается, что стратегически и Рузвельт, и Сталин рассматривали войну, в том числе, как возможность?
- И для США, и для Советского Союза война была в том числе возможностью выхода на мировую арену. До войны американцы являлись формально великой державой и по объёму экономики, и по военным возможностям. Но они не участвовали в мировых политических делах.
Советский Союз был бы рад войти в большую европейскую политику, но его не пускают. Российская империя была признанным участником концерта великих держав и главным фактором стабильности в Европе. Советский Союз такой силой не являлся. СССР оказался изолирован от основных центров политической жизни цепью лимитрофных государств, образовавшихся на руинах империи, которые имели с ним тяжелые отношения. Поляки, румыны, финны и так далее. СССР поздно начал создавать современную экономику. У Советского Союза до начала 30-х годов нет полноценных вооруженных сил. После гражданской войны Красную армию распустили и то, что вместо нее было создано, это в лучшем случае народное ополчение, не очень хорошо вооруженное.
Поэтому для обеих стран Вторая мировая война была выходом на большую арену. И конечно, и американцы, Советы хотели этот мир изменить под себя.
Споры и компромиссы
- Как происходил дипломатический контакт в условиях логистических ограничений?
- Работали посольства, люди, специально уполномоченные для обозначения дипломатического контакта, зашифрованные каналы связи, телеграф. Другое дело, что особо важную информацию, конечно же, предпочитали сообщать лично. Поэтому необходимость физически общаться в ситуации, когда Европа была фактически закрыта, сохранялась. Американцы использовали наиболее очевидный маршрут через Сибирь или через Иран, Ближний Восток, Египет. Либо же, ну самый такой экстремальный путь, как летал Черчилль в Москву в 42-м году или как летал до него Молотов из Москвы в Лондон и Вашингтон, это над оккупированной частью Европы на высотных самолетах. Никто не мог гарантировать, что немцы не перехватят самолет, который летит над Северной Европой.
Были, например, курьезы, когда англо-американская делегация сначала плыла по морю до Архангельска, потом летела самолетом в Москву. И при подлете их наши зенитчики обстреляли. Но в целом логистику удалось отстроить.
- Как шёл поиск точек соприкосновения в условиях идеологического противостояния сторон?
- Это была, конечно, проблема. Потому что есть не только фактор интересов, интересы всегда разнонаправлены, тем более у таких больших государств, как Британская империя, США и Советский Союз. Был еще действительно фактор идеологии. Вот, например, у императора Александра Первого такой проблемы не было. Когда он кроил Европу на Венском конгрессе в 1814−15 годах, он говорил на одном языке со своими партнерами, с королем Пруссии, с канцлером Австрии, министром иностранных дел Великобритании. В те времена не было этого экрана идеологии, который искажал импульсы. У Сталина, Рузвельта и Черчилля он имел колоссальную силу воздействия.
Сталин был реалистом, который рассматривал баланс сил и интересов как суть международных дел. Но он эти силы и интересы тоже рассматривал через призму идеологии. Есть его высказывание уже конца войны, в 1945 году, в беседе с югославскими коммунистами: «Эта война не такая, как предыдущие войны. Здесь ключевую роль играет идеология. Кто захватывает территорию, тот и устанавливает на ней свою идеологию».
То есть, для него идеология была инструментом. Это был, во-первых, язык, на котором он говорил с миром и через который он мир расшифровывал. Во-вторых, это был инструмент господства. То есть, идеология как некий набор институтов, ценностей, представлений, которые формируют повседневную жизнь людей.
- Но идеологический аспект Сталин с союзниками не обсуждал?
- Он этот вопрос не ставил, потому что это для него это была вещь сама собой разумеющаяся. Он исходил из того, что американцы будут насаждать свою идеологию и институты. Это имелось в виду по умолчанию.
- Что тогда было на столе из вопросов глобальной повестки, по которым были конфликты между лидерами великих держав?
- Самое главное - это судьба границ послевоенной Европы. Здесь Сталин занял жесткую позицию в отношении стран Восточной Европы. То есть Прибалтика, Польша, Румыния и все остальное, что примыкает к советской западной границе, является неким буфером и, по его мнению, безусловно должно отойти в советскую сферу влияния.
Наиболее острым был вопрос Польши. Он долго решался, вплоть до Ялтинской конференции. Черчилль попытался что-то изменить, ведь Польша для англичан была важной темой, потому что, ну мы же помним, из-за Польши Англия в войну, собственно говоря, вступила. В Великобритании сидело польское эмигрантское правительство и было довольно шумным антисоветским центром.
Сталин позицию занял крайне принципиальную. Никаких компромиссов в части Польши быть не может. Во-первых, граница по линии Керзона означает, что все присоединения после 1939 года должны быть признаны за Советским Союзом. И, во-вторых, в Польше не может находиться у власти антисоветский режим ни при каких условиях.
- Ялта поставила жирную точку в территориальных спорах?
- Верно, в Ялте были закрыты самые острые вопросы. Польский и германский. Что делать с Германией? Был такой план Моргентау, который предполагал создание нескольких государств на территории Германского рейха. Сталин позицию занимал сложную. У нас пишут до сих пор иногда, что он был однозначно против раздела Германии. Это не так. Сталин допускал возможность раздробления Германии в том случае, если бы союзники пошли на уступки в других вопросах, важных для СССР, например, в вопросе репараций. Но так как нигде больших уступок не намечалось, он решил немецкую карту использовать в качестве сюжета для будущей расторговки с Западом.
Второй сюжет, который окончательно был оформлен в Ялте, это вопрос наднациональной организации. Здесь инициатором был Рузвельт. Черчилля это волновало во вторую очередь, ему были важны сферы влияния и территории.
- У Рузвельта было более широкое видение.
- Да. Кто будет управлять миром? Уже в 1942 году в Тегеране Рузвельт выдвигает план создания директории «четырех полицейских». Идея была в том, чтобы создать некий силовой орган из четырех великих держав СССР, США, Великобритании, Китая, которые будут брать на себя «полицейские» функции по управлению миром, то есть следить за порядком, предотвращать войны, заниматься развитием территорий. Сталин этот план в принципе хорошо воспринял. В отличие от довоенной рыхлой Лиги наций, где множество разнокалиберных стран участвует, в новой модели четыре мощнейшие державы договариваются и управляют миром.
Другое дело, что они по-разному видели, как это все будет выглядеть. Сталин хотел создать две организации: одну для Европы, другую для остального мира. Черчилль тоже был на этой позиции. Но в итоге прошла идея Рузвельта, и была создана ООН с ядром в виде Совета Безопасности, Клуба Великих Держав, которые имеют право де-юре использовать силу и право вето.
Уроки Ялты
- Какие уроки мы можем вынести из дипломатии тех лет?
- Тут любые параллели, безусловно, условны. Но я бы назвал в числе основных сдерживающих факторов с точки зрения недопущения эскалации и перехода в горячую фазу тот факт, что за годы войны лидеры великих держав научились слушать и понимать интересы друг друга. Это на самом деле не такая легкая задача, как может показаться. Сесть с партнером, поговорить, перестать в нем видеть априори человека, который тебя хочет обмануть, попытаться вникнуть в его подлинные цели, задачи, интересы.
Это то, чему научились лидеры большой тройки далеко не сразу. К середине 43-го года в отношениях между ними назрел очень серьезный кризис, когда Запад Сталина в очередной раз обманул со вторым фронтом. Причем это было сделано довольно болезненно, одновременно нашли польские останки под Смоленском, Сталина стали обвинять в том, что он убил польских офицеров. Тогда же начались сбои с поставками по Ленд-Лизу. Коалиция была если не на грани распада, то на грани утраты доверия и взаимодействия.
В этой ситуации потребовалась личная встреча, которая произошла в Тегеране. Большая Тройка смогла преодолеть кризис через прямой диалог. В итоге они смогли найти Modus Vivendi. Это то, что они передали будущим поколениям лидеров США и Советского Союза.
- Умение слушать и слышать.
- И понимать, что ты имеешь дело с равноправным партнером. Здравая оценка, то есть то, чего сейчас нет в отношении, или допустим не было еще недавно в отношении России и Запада.
- Как выстраивались эти отношения на неформальном уровне?
- Они друг другу дарили какие-то подарки. Были и неформальные встречи. Одна из известных состоялась в августе 42-го года, когда Черчилль впервые приехал в Москву Сталина успокаивать на тему того, что его в первый и не в последний раз ввели в заблуждение по поводу второго фронта. Сталин сначала задрал градус эскалации до потолка, чуть ли не с разрывом переговоров, а после позвал Черчилля к себе в квартиру в Кремлёвскую, где за неформальным общением отношения были улажены.
- То есть бутылка водки порой может сделать больше, чем целая конференция.
- Ну конечно, они там сидели за богатым столом, Черчилль вышел, как он написал, с раскалывающейся головой, но готовый подписать любое коммюнике, чтобы уже просто поехать домой.
Сталину хотели подарить американский самолет в Ялте в 45-м году. Были вот такие элементы некоего политеса, которые налаживали личный диалог.
- По вашему мнению, что не так с нынешней дипломатией? Если смотреть через призму истории?
- Я не специалист по политике современной, да и не претендую на эту роль. Если бы Джо Байден остался президентом в США, я бы тогда говорил про попытку уходящей империи как-то цепляться за статус, которого уже нет. Можно условно сравнить с тем, как себя вел Черчилль в 40-е годы. Он был лидером заходящей Великой Державы, которая пыталась цепляться за остатки старого порядка. А мощный дуэт Сталин-Рузвельт постоянно его ставили на место.
Любая великая держава рано или поздно приходит в упадок. Это закон. Все зарождается, развивается, умирает. Поэтому попытка законсервировать существующий порядок бессмысленна.
Однако сейчас мы имеем иную ситуацию, ибо у власти президент Трамп, который будет пытаться как-то все развернуть. То, как он пытается говорить с Путиным, мне напоминает какие-то элементы диалога лидеров Большой тройки в 40-е годы. Потому что у них есть, видимо, некая общность подходов к миру.
Они оба смотрят на мир как поле силовой борьбы. Для Трампа, может быть, это скорее совокупная финансовая, экономическая мощь. Для Путина же сила — это, в первую очередь, военная сила. Видимо, они понимают, что сила может быть многоаспектной, что Россия, хотя и не является мощным экономическим игроком, но обладает вооруженным инструментарием и, главное, готовностью его использовать, и поэтому Россия становится во многом равноправным партнером для США.
- Как и Китай?
- Китай в сороковые годы рассматривался как партнер на будущее. Сегодня мы видим, что он действительно стал сверхдержавой, однако мировой повестки у него до сих пор нет, в отличие от лидеров 40-х годов. Мне не очевидно, что именно Китай хочет донести миру. Идеи Пояса и Пути довольно сырые. Как это будет заменять глобальную американскую экономику, основанную на долларе, мне не очень понятно. Поэтому место Китая за столом «большой тройки» для меня тоже пока не видно. Может он его и не хочет занимать.
Вещь, которую я скажу, может быть не очень позитивная, но предпосылки для диалога, взаимопонимания, равноправия, уважения часто возникают в результате большого катаклизма. Вторая мировая война такие условия создала. То, что мы видим на Украине, глобальный контекст кризиса, возможно, тоже их создадут.
То, что сейчас это окно открылось, наверное, можно констатировать, а вот воспользуемся ли мы этим окном пока это не очевидно. Но по всей видимости сам формат, выработанный Сталиным, Черчиллем, Рузвельтом, то есть диалог лидеров великих держав с позиции интереса и с позиции силы, снова будет востребован. Ничего другого до сих пор не изобретено, к сожалению.
- Сейчас есть новый фактор – угроза применения ядерного оружия. Но его, похоже, перестали бояться?
- Этот вопрос будет прояснен только в том случае, если это случится. Знаете, тут в чем отличие? Когда была Вторая мировая война, не было интернета, не было Телеграмма, не было средств массовой информации в каждом телефоне. Информационное поле меньше искажало реальность для людей, для общества, для политиков. Они могли спокойно какие-то вещи обсуждать. Сегодня вброшенный в информационное поле совершенно абсурдный факт может за счет эффекта масштаба достичь пропорций чего-то реального.
Я не думаю, что есть серьезный риск скатывания в ядерную войну. Все-таки мы видим, что когда дело доходит до обсуждения в ответственных местах ответственными людьми, то все очень хорошо понимают, что это такое. Это касается и нашего президента, это касается и американцев. Никто не собирается всерьез махать ядерной дубинкой.
- Опираясь на понимание истории, можно ли предположить, что и после нынешнего кризиса нас ждет передел глобальной карты или новый миропорядок? Все же говорят про «новую Ялту».
- Думаю, это был бы оптимальный вариант, если бы можно было сесть и просто перечеркнуть карту. Но никто не будет делить мир так, как это делали Черчилль со Сталиным в октябре 1944 года, когда Черчилль в последний раз приехал в Москву. Они взяли лист бумаги, Черчилль написал по-английски от руки слева ряд стран в столбик, а справа указал пропорцию в процентах влияния СССР и Англии в той или иной стране Юго-Восточной Европы. В Греции 90 на 10 в пользу Англии, в Румынии 80 на 20 в пользу Советского Союза. То есть это чистый империализм. Вот такого больше нельзя, видимо, делать, это считается недопустимым. Поэтому что-то будет, но это будет выглядеть совершенно иначе.
Я вчера к беседе готовился, и мне попалась цитата, которую не могу не озвучить. Американский посол в Советском Союзе Аверрел Гарриман в октябре 1944 года, вернувшись в США для консультации в Госдепе, сказал следующие слова после встречи с Рузвельтом: «Президент не представляет решимости русских решать жизненно важные для них вопросы на своих условиях и в своей манере. Они никогда не доверят эти вопросы арбитражу президента или кого-то еще».
Эти слова вы можете взять и спроецировать на то, что сейчас происходит в отношениях между Россией и США, соответствие будет почти полное. Раздел условных сфер влияния, а именно вопросы, связанные с безопасностью, будут подниматься именно в формате условной Ялты. Будет признано за Российской Федерацией наличие безусловных интересов безопасности в ее непосредственном предполье.
То, что, в общем-то, было сделано в Ялте, когда Рузвельт признал за Сталиным право на такую сферу влияния. Это стало для американцев серьезным шагом, потому что американская политическая культура, в принципе, категорией “сферы влияния” не оперирует. Для них сфера влияния — это что-то абсолютно незаконное, противоестественное. Может быть одна сфера влияния - весь земной шаг, где доминирует тот, у кого больше денег, у кого более правильные ценности. И тот факт, что на это пошел Рузвельт в Ялте, является серьезным достижением Советского Союза.
На что-то такое, мне кажется, сейчас претендует Российская Федерация. Если это удастся получить просто опционально, даже не в виде какой-то территории конкретно взятой, если будет закреплен новый статус России как страны, которая имеет право на свои интересы в непосредственном предполье в окружающих ее странах, это станет переигровкой Ялты в новых условиях. Печать
На фоне современной кризисной и бескомпромиссной внешнеполитической повестки, равно как и повсеместной милитаризации, интересно вновь оценить, как мировые лидеры таких разных (от идеологии до стратегического видения мироустройства) в самом широком смысле этого слова государств свыше 80 лет назад преодолевали множество препятствий на пути взаимовыгодного диалога. Что этому предшествовало, как проходили переговоры и почему мир до сих пор держится на договоренностях «Большой тройки»?
Об этом и не только обозреватель журнала «Монокль» Игорь Карпов побеседовал с кандидатом исторических наук, доцентом исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александром Вершининым.
- Начнем с баланса сил мировой дипломатии в рамках Второй Мировой войны.
- Я сделаю шаг назад. Всё-таки архитектура международных отношений после начала Великой Отечественной войны полностью изменилась. После подписания пакта с Германией Сталин ждал повторения на Западе сценария 1914 года. А именно того, что Гитлер увязнет в позиционной войне во Франции и в Бельгии. Францию будет поддерживать Великобритания. На стороне Англии будут играть США.
То есть возникнет стратегический тупик. Германию блокируют с морей, а Советский Союз может спокойно развиваться и где-то к 42−43 году будет иметь все возможности для того, чтобы, как Сталин выразился еще в 1925 году, «бросить свою пролетарскую гирю на чашу весов». Иными словами, выйдет как «Бог из машины» и решит этот клубок международных, европейских противоречий в свою пользу.
- Что пошло не так?
- В первую очередь, впечатляющая операция немцев на Западном фронте, которая за месяц 40-ого года вывела Францию из войны. Сталин сталкивается с неприятной ситуацией, которую он не предвидел: на европейском континенте он оказывается один на один с Гитлером при полном понимании, что советско-германские противоречия, обострившиеся уже во второй половине 39-го в 40-м году, никуда не исчезли.
Гитлер приехал в оккупированный Париж в конце июня сорокового года, и в ходе своего визита отдал распоряжение о подготовке плана нападения на Советский Союз.
У Сталина нет союзников. Великобритания не является союзником, она является воюющей стороной, открыто солидаризироваться с которой Сталин не хочет, чтобы не злить Германию и не подрывать советско-германский диалог. США в это время вне европейской игры. Рузвельт настроен на все более активное втягивание Америки в европейские дела, но в США существовало мощное изоляционистское лобби. Оно ему этого сделать не дает. США, скорее, морально поддерживают Великобританию, хотя постепенно всё-таки наращиваются военные поставки. Япония на Дальнем Востоке по-прежнему занимает откровенно враждебную позицию в отношении СССР.
- Получается, к началу войны Советский Союз оказывается фактически во внешнеполитической изоляции?
- Да, и нападение Гитлера было тем событием, которое эту изоляцию разрывает. В тот же день Черчилль заявляет о том, что Великобритания всеми силами поддержит Советский Союз. Его яркая речь хорошо известна (Черчилль был мастер красивого слова): «Если Гитлер вторгнется в ад, я замолвлю за дьявола словечко в Палате общин». Тут же объявляется о том, что Великобритания готова поставлять военное снаряжение в Советский Союз. 12 июля оформляется советско-британский союз.
С Америкой все было сложнее, потому что, во-первых, она находится очень далеко и в войне не участвует формально. Во-вторых, советско-американских отношений практически нет к моменту начала Великой Отечественной войны.
- Вообще нет?
- В 30-е годы они за рамки консульских дел фактически так и не вышли. Отсюда необходимость для американцев, да и для Советского Союза, с нуля эти отношения выстраивать. И в США отношение к Советскому Союзу было неоднозначным. Как и в Англии, но там ситуация другая: Англию бомбят, английский флот топят немецкие подлодки, поэтому, что называется, не до жиру. А американцы пока думают, стоит ли поддерживать русских. И лоббистов Советского Союза в США по пальцам можно было посчитать. Из них основным был именно президент Рузвельт.
Вызовы и возможности
- Как при такой дистанции всё же удалось создать коалицию?
- Во-первых, общая угроза. Второе, это общность взглядов лидеров будущей антигитлеровской коалиции вообще на ситуацию в мире и, если можно так выразиться, некая сопоставимость их типажей. Оказалось, что Черчиллю, застарелому империалисту, имеющему богатый опыт управления Британской империей, на самом деле есть, о чем поговорить со Сталиным, с большевиком, которого он обличал сотни раз с трибун. У них общие представления о мире, общие цели, они говорят на одном языке, обсуждая судьбы континентов, народов.
И даже какие-то личные моменты у них оказываются совместимыми. Это вещь, которая дорогого стоит, тем более в ситуации, когда регулярные связи на уровне дипломатов нестабильны. Первый личный контакт Сталина с Черчиллем в августе 42-го года показал, что при всех разногласиях эти два человека друг друга слышат. Это было что-то похожее на взаимоотношения, которые выстраиваются между Путиным и Трампом. То есть они люди, безусловно, разные, возглавляют разные страны, которые находятся в самом центре мирового катаклизма, но они друг друга слышат. Как сейчас нам, по крайней мере, говорят из Вашингтона и из Москвы.
- Почему в ходе переговоров вообще был принципиален вопрос о переделе сфер влияния?
- Гитлер взорвал мировой порядок, архитектура которого сложилась после Первой мировой войны. Она была неоднозначной, ее критикуют, во многом оправданно, но она была и основывалась на доминировании Запада: военном, экономическом, если угодно, идеологическом. Были созданы институты, на которых все это базировалось.
Гитлер своим ревизионизмом в Европе и его союзники своими действиями за пределами Европы, соответственно, Япония в Восточной Азии, Италия в Африке, все это взорвали. Огромный мир оказался неуправляем.
Перед лидерами Большой Тройки стояла задача все пересобрать. То есть создать такую структуру управления миром, которая, во-первых, гарантирует защиту от возобновления новых войн, во-вторых, обеспечит стабильность и будет амортизировать противоречия, существовавшие всегда между великими державами. В-третьих, она позволит миру как-то развиваться.
Говорить о практическом решении этих задач можно было только тогда, когда непосредственная угроза победы стран Оси отошла на второй план, а это, пожалуй, не раньше конца 43-го года.
- До этого их обсуждение было неуместно?
- Оно велось, но без какой-то практической проекции. Чтобы было понятно, насколько вопросы такого рода были важны для Сталина. В декабре 1941 года немцев только-только от Москвы начинают отгонять. В советскую столицу приезжает министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден, говорить о помощи Красной армии, которая истекает кровью. А Сталин ставит вопрос о переделе границ в Европе. Иден был, как он потом писал в мемуарах, несколько шокирован, так как очевидно, что не до этого было в это время Советскому Союзу. Однако Сталин намечал ориентиры очень четко.
- Проявил стратегическое видение?
- Сталин в первую очередь стратег, безусловно. Ему важен баланс сил, ему важны границы, ему важны территории, сферы влияния. Это для него реальная азбука большой политики. В этом смысле он совпадал с Черчиллем.
Для Рузвельта это все-таки нечто другое. Нужно понимать, что у американцев особая внешняя политическая культура. Если страны Европы на своем маленьком западном полуострове Евразии веками воевали за небольшие клочки земли, то американцы сразу мыслят континентальными масштабами.
Как Рузвельт видел картину мира? У него в кабинете висела карта, но не такая, как у нас в школах, а повернутая к зрителю со стороны Северного полюса. На этой карте США были не на западном отшибе, а в самом центре. Рузвельт так и видел мир. Для него это связная система, большое пространство, которым необходимо управлять.
- Получается, что стратегически и Рузвельт, и Сталин рассматривали войну, в том числе, как возможность?
- И для США, и для Советского Союза война была в том числе возможностью выхода на мировую арену. До войны американцы являлись формально великой державой и по объёму экономики, и по военным возможностям. Но они не участвовали в мировых политических делах.
Советский Союз был бы рад войти в большую европейскую политику, но его не пускают. Российская империя была признанным участником концерта великих держав и главным фактором стабильности в Европе. Советский Союз такой силой не являлся. СССР оказался изолирован от основных центров политической жизни цепью лимитрофных государств, образовавшихся на руинах империи, которые имели с ним тяжелые отношения. Поляки, румыны, финны и так далее. СССР поздно начал создавать современную экономику. У Советского Союза до начала 30-х годов нет полноценных вооруженных сил. После гражданской войны Красную армию распустили и то, что вместо нее было создано, это в лучшем случае народное ополчение, не очень хорошо вооруженное.
Поэтому для обеих стран Вторая мировая война была выходом на большую арену. И конечно, и американцы, Советы хотели этот мир изменить под себя.
Споры и компромиссы
- Как происходил дипломатический контакт в условиях логистических ограничений?
- Работали посольства, люди, специально уполномоченные для обозначения дипломатического контакта, зашифрованные каналы связи, телеграф. Другое дело, что особо важную информацию, конечно же, предпочитали сообщать лично. Поэтому необходимость физически общаться в ситуации, когда Европа была фактически закрыта, сохранялась. Американцы использовали наиболее очевидный маршрут через Сибирь или через Иран, Ближний Восток, Египет. Либо же, ну самый такой экстремальный путь, как летал Черчилль в Москву в 42-м году или как летал до него Молотов из Москвы в Лондон и Вашингтон, это над оккупированной частью Европы на высотных самолетах. Никто не мог гарантировать, что немцы не перехватят самолет, который летит над Северной Европой.
Были, например, курьезы, когда англо-американская делегация сначала плыла по морю до Архангельска, потом летела самолетом в Москву. И при подлете их наши зенитчики обстреляли. Но в целом логистику удалось отстроить.
- Как шёл поиск точек соприкосновения в условиях идеологического противостояния сторон?
- Это была, конечно, проблема. Потому что есть не только фактор интересов, интересы всегда разнонаправлены, тем более у таких больших государств, как Британская империя, США и Советский Союз. Был еще действительно фактор идеологии. Вот, например, у императора Александра Первого такой проблемы не было. Когда он кроил Европу на Венском конгрессе в 1814−15 годах, он говорил на одном языке со своими партнерами, с королем Пруссии, с канцлером Австрии, министром иностранных дел Великобритании. В те времена не было этого экрана идеологии, который искажал импульсы. У Сталина, Рузвельта и Черчилля он имел колоссальную силу воздействия.
Сталин был реалистом, который рассматривал баланс сил и интересов как суть международных дел. Но он эти силы и интересы тоже рассматривал через призму идеологии. Есть его высказывание уже конца войны, в 1945 году, в беседе с югославскими коммунистами: «Эта война не такая, как предыдущие войны. Здесь ключевую роль играет идеология. Кто захватывает территорию, тот и устанавливает на ней свою идеологию».
То есть, для него идеология была инструментом. Это был, во-первых, язык, на котором он говорил с миром и через который он мир расшифровывал. Во-вторых, это был инструмент господства. То есть, идеология как некий набор институтов, ценностей, представлений, которые формируют повседневную жизнь людей.
- Но идеологический аспект Сталин с союзниками не обсуждал?
- Он этот вопрос не ставил, потому что это для него это была вещь сама собой разумеющаяся. Он исходил из того, что американцы будут насаждать свою идеологию и институты. Это имелось в виду по умолчанию.
- Что тогда было на столе из вопросов глобальной повестки, по которым были конфликты между лидерами великих держав?
- Самое главное - это судьба границ послевоенной Европы. Здесь Сталин занял жесткую позицию в отношении стран Восточной Европы. То есть Прибалтика, Польша, Румыния и все остальное, что примыкает к советской западной границе, является неким буфером и, по его мнению, безусловно должно отойти в советскую сферу влияния.
Наиболее острым был вопрос Польши. Он долго решался, вплоть до Ялтинской конференции. Черчилль попытался что-то изменить, ведь Польша для англичан была важной темой, потому что, ну мы же помним, из-за Польши Англия в войну, собственно говоря, вступила. В Великобритании сидело польское эмигрантское правительство и было довольно шумным антисоветским центром.
Сталин позицию занял крайне принципиальную. Никаких компромиссов в части Польши быть не может. Во-первых, граница по линии Керзона означает, что все присоединения после 1939 года должны быть признаны за Советским Союзом. И, во-вторых, в Польше не может находиться у власти антисоветский режим ни при каких условиях.
- Ялта поставила жирную точку в территориальных спорах?
- Верно, в Ялте были закрыты самые острые вопросы. Польский и германский. Что делать с Германией? Был такой план Моргентау, который предполагал создание нескольких государств на территории Германского рейха. Сталин позицию занимал сложную. У нас пишут до сих пор иногда, что он был однозначно против раздела Германии. Это не так. Сталин допускал возможность раздробления Германии в том случае, если бы союзники пошли на уступки в других вопросах, важных для СССР, например, в вопросе репараций. Но так как нигде больших уступок не намечалось, он решил немецкую карту использовать в качестве сюжета для будущей расторговки с Западом.
Второй сюжет, который окончательно был оформлен в Ялте, это вопрос наднациональной организации. Здесь инициатором был Рузвельт. Черчилля это волновало во вторую очередь, ему были важны сферы влияния и территории.
- У Рузвельта было более широкое видение.
- Да. Кто будет управлять миром? Уже в 1942 году в Тегеране Рузвельт выдвигает план создания директории «четырех полицейских». Идея была в том, чтобы создать некий силовой орган из четырех великих держав СССР, США, Великобритании, Китая, которые будут брать на себя «полицейские» функции по управлению миром, то есть следить за порядком, предотвращать войны, заниматься развитием территорий. Сталин этот план в принципе хорошо воспринял. В отличие от довоенной рыхлой Лиги наций, где множество разнокалиберных стран участвует, в новой модели четыре мощнейшие державы договариваются и управляют миром.
Другое дело, что они по-разному видели, как это все будет выглядеть. Сталин хотел создать две организации: одну для Европы, другую для остального мира. Черчилль тоже был на этой позиции. Но в итоге прошла идея Рузвельта, и была создана ООН с ядром в виде Совета Безопасности, Клуба Великих Держав, которые имеют право де-юре использовать силу и право вето.
Уроки Ялты
- Какие уроки мы можем вынести из дипломатии тех лет?
- Тут любые параллели, безусловно, условны. Но я бы назвал в числе основных сдерживающих факторов с точки зрения недопущения эскалации и перехода в горячую фазу тот факт, что за годы войны лидеры великих держав научились слушать и понимать интересы друг друга. Это на самом деле не такая легкая задача, как может показаться. Сесть с партнером, поговорить, перестать в нем видеть априори человека, который тебя хочет обмануть, попытаться вникнуть в его подлинные цели, задачи, интересы.
Это то, чему научились лидеры большой тройки далеко не сразу. К середине 43-го года в отношениях между ними назрел очень серьезный кризис, когда Запад Сталина в очередной раз обманул со вторым фронтом. Причем это было сделано довольно болезненно, одновременно нашли польские останки под Смоленском, Сталина стали обвинять в том, что он убил польских офицеров. Тогда же начались сбои с поставками по Ленд-Лизу. Коалиция была если не на грани распада, то на грани утраты доверия и взаимодействия.
В этой ситуации потребовалась личная встреча, которая произошла в Тегеране. Большая Тройка смогла преодолеть кризис через прямой диалог. В итоге они смогли найти Modus Vivendi. Это то, что они передали будущим поколениям лидеров США и Советского Союза.
- Умение слушать и слышать.
- И понимать, что ты имеешь дело с равноправным партнером. Здравая оценка, то есть то, чего сейчас нет в отношении, или допустим не было еще недавно в отношении России и Запада.
- Как выстраивались эти отношения на неформальном уровне?
- Они друг другу дарили какие-то подарки. Были и неформальные встречи. Одна из известных состоялась в августе 42-го года, когда Черчилль впервые приехал в Москву Сталина успокаивать на тему того, что его в первый и не в последний раз ввели в заблуждение по поводу второго фронта. Сталин сначала задрал градус эскалации до потолка, чуть ли не с разрывом переговоров, а после позвал Черчилля к себе в квартиру в Кремлёвскую, где за неформальным общением отношения были улажены.
- То есть бутылка водки порой может сделать больше, чем целая конференция.
- Ну конечно, они там сидели за богатым столом, Черчилль вышел, как он написал, с раскалывающейся головой, но готовый подписать любое коммюнике, чтобы уже просто поехать домой.
Сталину хотели подарить американский самолет в Ялте в 45-м году. Были вот такие элементы некоего политеса, которые налаживали личный диалог.
- По вашему мнению, что не так с нынешней дипломатией? Если смотреть через призму истории?
- Я не специалист по политике современной, да и не претендую на эту роль. Если бы Джо Байден остался президентом в США, я бы тогда говорил про попытку уходящей империи как-то цепляться за статус, которого уже нет. Можно условно сравнить с тем, как себя вел Черчилль в 40-е годы. Он был лидером заходящей Великой Державы, которая пыталась цепляться за остатки старого порядка. А мощный дуэт Сталин-Рузвельт постоянно его ставили на место.
Любая великая держава рано или поздно приходит в упадок. Это закон. Все зарождается, развивается, умирает. Поэтому попытка законсервировать существующий порядок бессмысленна.
Однако сейчас мы имеем иную ситуацию, ибо у власти президент Трамп, который будет пытаться как-то все развернуть. То, как он пытается говорить с Путиным, мне напоминает какие-то элементы диалога лидеров Большой тройки в 40-е годы. Потому что у них есть, видимо, некая общность подходов к миру.
Они оба смотрят на мир как поле силовой борьбы. Для Трампа, может быть, это скорее совокупная финансовая, экономическая мощь. Для Путина же сила — это, в первую очередь, военная сила. Видимо, они понимают, что сила может быть многоаспектной, что Россия, хотя и не является мощным экономическим игроком, но обладает вооруженным инструментарием и, главное, готовностью его использовать, и поэтому Россия становится во многом равноправным партнером для США.
- Как и Китай?
- Китай в сороковые годы рассматривался как партнер на будущее. Сегодня мы видим, что он действительно стал сверхдержавой, однако мировой повестки у него до сих пор нет, в отличие от лидеров 40-х годов. Мне не очевидно, что именно Китай хочет донести миру. Идеи Пояса и Пути довольно сырые. Как это будет заменять глобальную американскую экономику, основанную на долларе, мне не очень понятно. Поэтому место Китая за столом «большой тройки» для меня тоже пока не видно. Может он его и не хочет занимать.
Вещь, которую я скажу, может быть не очень позитивная, но предпосылки для диалога, взаимопонимания, равноправия, уважения часто возникают в результате большого катаклизма. Вторая мировая война такие условия создала. То, что мы видим на Украине, глобальный контекст кризиса, возможно, тоже их создадут.
То, что сейчас это окно открылось, наверное, можно констатировать, а вот воспользуемся ли мы этим окном пока это не очевидно. Но по всей видимости сам формат, выработанный Сталиным, Черчиллем, Рузвельтом, то есть диалог лидеров великих держав с позиции интереса и с позиции силы, снова будет востребован. Ничего другого до сих пор не изобретено, к сожалению.
- Сейчас есть новый фактор – угроза применения ядерного оружия. Но его, похоже, перестали бояться?
- Этот вопрос будет прояснен только в том случае, если это случится. Знаете, тут в чем отличие? Когда была Вторая мировая война, не было интернета, не было Телеграмма, не было средств массовой информации в каждом телефоне. Информационное поле меньше искажало реальность для людей, для общества, для политиков. Они могли спокойно какие-то вещи обсуждать. Сегодня вброшенный в информационное поле совершенно абсурдный факт может за счет эффекта масштаба достичь пропорций чего-то реального.
Я не думаю, что есть серьезный риск скатывания в ядерную войну. Все-таки мы видим, что когда дело доходит до обсуждения в ответственных местах ответственными людьми, то все очень хорошо понимают, что это такое. Это касается и нашего президента, это касается и американцев. Никто не собирается всерьез махать ядерной дубинкой.
- Опираясь на понимание истории, можно ли предположить, что и после нынешнего кризиса нас ждет передел глобальной карты или новый миропорядок? Все же говорят про «новую Ялту».
- Думаю, это был бы оптимальный вариант, если бы можно было сесть и просто перечеркнуть карту. Но никто не будет делить мир так, как это делали Черчилль со Сталиным в октябре 1944 года, когда Черчилль в последний раз приехал в Москву. Они взяли лист бумаги, Черчилль написал по-английски от руки слева ряд стран в столбик, а справа указал пропорцию в процентах влияния СССР и Англии в той или иной стране Юго-Восточной Европы. В Греции 90 на 10 в пользу Англии, в Румынии 80 на 20 в пользу Советского Союза. То есть это чистый империализм. Вот такого больше нельзя, видимо, делать, это считается недопустимым. Поэтому что-то будет, но это будет выглядеть совершенно иначе.
Я вчера к беседе готовился, и мне попалась цитата, которую не могу не озвучить. Американский посол в Советском Союзе Аверрел Гарриман в октябре 1944 года, вернувшись в США для консультации в Госдепе, сказал следующие слова после встречи с Рузвельтом: «Президент не представляет решимости русских решать жизненно важные для них вопросы на своих условиях и в своей манере. Они никогда не доверят эти вопросы арбитражу президента или кого-то еще».
Эти слова вы можете взять и спроецировать на то, что сейчас происходит в отношениях между Россией и США, соответствие будет почти полное. Раздел условных сфер влияния, а именно вопросы, связанные с безопасностью, будут подниматься именно в формате условной Ялты. Будет признано за Российской Федерацией наличие безусловных интересов безопасности в ее непосредственном предполье.
То, что, в общем-то, было сделано в Ялте, когда Рузвельт признал за Сталиным право на такую сферу влияния. Это стало для американцев серьезным шагом, потому что американская политическая культура, в принципе, категорией “сферы влияния” не оперирует. Для них сфера влияния — это что-то абсолютно незаконное, противоестественное. Может быть одна сфера влияния - весь земной шаг, где доминирует тот, у кого больше денег, у кого более правильные ценности. И тот факт, что на это пошел Рузвельт в Ялте, является серьезным достижением Советского Союза.
На что-то такое, мне кажется, сейчас претендует Российская Федерация. Если это удастся получить просто опционально, даже не в виде какой-то территории конкретно взятой, если будет закреплен новый статус России как страны, которая имеет право на свои интересы в непосредственном предполье в окружающих ее странах, это станет переигровкой Ялты в новых условиях. Печать
Участие граждан не сводится к формальному одобрению списка ЦК16:19Как во Владивостоке отпразднуют День защитника Отечества16:17Литва и Польша хотят создать военный полигон вблизи Калининградской области15:59Чибис: В Заполярье начнут готовить ИТ-специалистов для горной отрасли15:33Плевать на Украину! Мерц назвал сроки завершения войны15:20Минобрнауки: 35,5% мигрантов провалили экзамен с первой попытки15:12Экс-единоросс и бывший депутат возглавил свердловских пенсионеров15:02Жена Сабурова впервые дала комментарий по депортации мужа14:40Оппозиция сорвала мэру Нижневартовска Кощенко отчет за 2025 год14:34Хроническая проблема наступающего дефицита ресурсов14:27В четырех регионах России сегодня проходят местные выборы14:01В Запорожской области намерены высадить почти 190 га леса13:21В публичное пространство смогут вернуться усопшие13:02Сейчас нужно не обсуждать проекты, а проектировать12:52Георгий Филимонов назвал важные проекты в Вологодской области12:35Мюнхенская конференция превратилась в площадку для сеанса зоопсихологии12:17Многоходовая комбинация Зеленского?12:15В первые дни сентября Владивосток примет Восточный экономический форум11:41Чибис: на масштабный капремонт в Заполярье направят более 7 млрд рублей11:22Котюков не захотел разбираться в ситуации в Кодинске?10:42Что необходимо для формирования системы здорового питания10:30Фундаментальный мировоззренческий разлом внутри воюющей страны10:10Школьники Приморья услышали живые истории героизма участников СВО16:14История с Telegram в России16:10Дмитрий Патрушев посетил с рабочей поездкой Нижегородскую область15:59В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг15:41На Запорожье реализовали Народную программу «Единой России»15:22Жители Алтая могут почувствовать себя чужими на «празднике жизни»15:10